Прожгла сетку на платье, Сосновский Владимир Львович
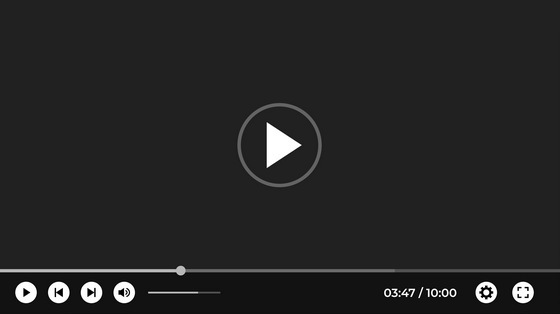
Сторонник здорового питания, он взял большую порцию салата и сочный кусок мяса. Лип , первая вещичка?! Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. Много, конечно недостатков, нов целом я довольна.
Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, еще покойным Мендесом была водружена деревянная будка уборной, вошел в нее и, сев без малейшей надобности на отскобленное добела деревянное сиденье, огляделся. Стояло ведерко с золой, поломанный ковшик при нем, висела на стене выцветшая картонка с инструкцией по пользованию уборной, написанная еще Мендесом, со свойственным ему простодушным остроумием. Заканчивалась она словами: уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть….
Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной, двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями, она была скифская, греческая, татарская, и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все—таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом… Среди племянников давно уже было установлено: лучший на свете вид открывается из Медеиного сортира.
А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который — сам знал — задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все—таки спросил:. Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в Нижнем поселке, ни тем более в Верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальнюю бухту, за двенадцать километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней, с палатками.
Собирайся, на кладбище сходим…. На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски—серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда—то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом — он помнил его с детства.
Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег. Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещающими превратиться во что—то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девочка, первенец.
Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько—сладкой. Но теперь настроение у Артема стало прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую и молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище. Кладбище шло от дороги на подъем.
Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети, восточный же склон издавна был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали подниматься по склону вверх, как будто и мертвые продолжали неправедное дело изгнания. Вообще—то предки Синопли покоились на феодосийском греческом кладбище, но к тому времени оно давно было закрыто, а отчасти и снесено, и Медея с легким сердцем похоронила мужа—еврея здесь, подальше от матери.
Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истова православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков. Над могилой Медеиного мужа стоял обелиск со звездой в навершии и надписью, вырубленной на цоколе: «Самуил Мендес, боец ЧОН, член партии с года. Надпись соответствовала воле покойного, звезду же Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый, луч и напоминала Рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации.
Слева от обелиска стояла маленькая стелла с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазками Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в пятьдесят четвертом году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда, старшего Медеиного брата Федора. Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки, и Медея, как всегда, его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на Восточных холмах.
Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и забросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке, Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил ему руку на плечо. Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя округлыми горками, Близнецами, как шар в лузу.
В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян—горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, и только профили гор держали каркас этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, — наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.
Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:. Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.

Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую—то находку на земле.
Артем вытянул шею: между двумя жесткими сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа, цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое—где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней тонкой палочкой.
Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами. Она узнала в нем того — утреннего, в белой рубашке.
В гости приходите, мы вон там, — и он махнул в сторону Медеиной усадьбы и не оглядываясь сбежал вниз. Вприпрыжку за ним понесся Артем. Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка, в полном безразличии к прохожим, трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.
Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой, совершенно забывая о ее возрасте, поправилась:. Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по—кошачьи в комнате покойного Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей.
К вечеру, однако, похолодало, и Медея накинула выношенную меховую безрукавку, покрытую старым бархатом, а Георгий надел татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне. Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна ее стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая поллитровка яблочной водки, которую она любила.
В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восемью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь неполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи жизни и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.
Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта ее натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью, порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, но она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши:. Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.
Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывает в открытый очаг, примитивное подобие камина, небольшое поленце.
По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый, молодой. Она дала ему телеграмму:. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей». Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето.
В Ташкенте не буду я жить, ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте не меняют мест. Мать постарела. По телефону с ней теперь разговаривать невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит. Но тогда их не так много было. Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную докторскую диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая трясина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал.
Построил бы дом здесь… Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеиных друзей… Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья—то дача, надо спросить у Медеи чья…. Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах…. Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур….
Елена Синопли, мать Георгия, принадлежала к знаменитой культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги.
Медея Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток.
Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год — а это был год двенадцатый — семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из—за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит.
Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в гостинице в Феодосии и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медеиной репутации первой отличницы. Толстенькая приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы и не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи: сестры Степанян получали хорошее домашнее образование.
Французскому и немецкому их учили гувернантки, к тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец. Обе девочки, и Медея, и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные: легкие, с большим запасом прочности у Елены и трудовые, мозолистые у Медеи.
При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки — темно—зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце. На следующий день после выпуска, около пяти часов, в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе.
Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие медные волосы под белую косынку, возле большого стола в тени двух старых тутовых деревьев готовили тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе с помощью скалок, уже закончилась, и теперь они растягивали на руках огромный лист теста, слегка подкидывая его края на тыльных сторонах ладоней.
Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие. Госпожа Степанян всплеснула руками — в Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же. Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелкали в пестрой тени обтертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они тестяного листа.
Потом Матильда пригласила их в дом, они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминаниям об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия, в корне своем турецкие, еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому дружному семейству, и казавшийся ей столь сомнительным проект — пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери — показался ей теперь очень удачным.
Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну. Через четыре дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак, на прекрасную дачу на берегу моря, которая и по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от Верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать на лето общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы….
Девочки нашли друг в друге совершенство: Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиной сдержанностью, самостоятельностью, мужским бесстрашием и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой от матери. По ночам, лежа на немецких гигиенически—жестких складных кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они в то лето до рассвета.
Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес.
А у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми была так богата ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной строгой даме, которую трепетали даже цветы на подоконнике.
К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась переписка и с некоторыми перерывами длилась уже более шестидесяти лет.
Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девочки, следу духовной моде тех лет, признаются друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях …и у меня возникло острое желание ударить ее по голове! Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медеиным письмом от десятого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года.
Это письмо написано по—русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что седьмого октября вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария» и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль не смогли достать сразу же после его затопления, и только три года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель.
Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов. В эти октябрьские дни Матильда донашивала своего четырнадцатого ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября.
Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на девятый день после гибели Георги последовали за ним. Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу знакома санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала ей на крымско—татарском, который в те годы знали многие жители Крыма:.
Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький толстый старичок, Медея была выше его на голову. Он сказал ей, как говорят детям: «Золотко мое! Их осталось тринадцать. Тринадцать детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков, с оркестром и оружейными залпами, младшим детям казались каким—то военным развлечением вроде парада.
В шестнадцатом году смерть не настолько еще осуетилась, как в восемнадцатом, когда умерших от сыпного тифа хоронили во рвах, еле одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром.
Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещеную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию. Похороны матери запомнил даже самый младший, двухлетний Димитрий. Через четыре года он рассказал Медее о двух поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием.
Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать открытому автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней ее лысеющий жених. Это был чуть ли не единственный автомобиль в городе, принадлежащий богачам Мурузи, и был он зеленого цвета, — об этом автомобиле и рассказал Медее Димитрий.
И когда мальчик напомнил ей, она вспомнила и сама. Действительно, автомобиль был зеленым… Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы. И личики у них другие, не как у чаек, — объяснил Димитрий.
В тот год было Медее шестнадцать. Пятеро было старших, семеро младших. Двоих в тот день не хватало, самых старших, Филиппа и Никифора. Оба они воевали и оба впоследствии погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь писала Медея их имена в одну строку в поминальной записке…. Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими тремя дочерьми она с ним едва управлялась.
Четырнадцатилетний Афанасий и двенадцатилетний Гавриил обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в ее доме. Но не было им суждено поднять теткино хозяйство, потому что двум годами позже умная и дельная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию.
В Югославии Афанасий, совсем еще неоперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где на долгие годы и затерялись его следы. Последнее, что было известно о нем тетке, — что он живет в горах никому не известной Метеоры. Софья с дочерьми и Гавриилом прижилась в конце концов в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся со временем из розничной торговли восточными сладостями, в частности пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери.
Гавриил, единственный в семье мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед второй войной тетку и лишь после войны, уже далеко не молодым, женился на француженке и родил двух французов с веселой фамилией Синопли.

Десятилетнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, содержатель кафе «Бубны» в Коктебеле, — он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни. Спустя месяц Анеля, старшая сестра Медеи, самая, как считали, красивая из сестер, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом.
Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда очень к ней привязанная, а в последние дни просто от нее не отходившая. Анеля была в смущении: как оставить троих малолетних на шестнадцатилетнюю Медею? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прожившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей:.
Его письмо было самым коротким: «Вся наша семья глубоко сочувствует Вам в постигшем Вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем помочь Вам в трудную минуту». На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в двадцать шестом году, в октябрьские дни, задремав среди дня на лавочке, Медея увидела троих: Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоявших над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а почему—то трехлетней, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея.
Не говоря о том, что при жизни бороды он никогда не носил. Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе и не дремала, во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот волнующий запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, а в особенности этим ароматом они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали от каких—то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.
Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене. Далее она переходит на французский: все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие, как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному наречию, в котором богатство оттенков как бы отсутствует.
И пока она писала это письмо, снова откуда—то приплыл смолистый запах, который она почувствовала тогда на кладбище. Письма долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на два—три месяца. Через три месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных посланий, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда казалось, что все потеряно.
Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября восемнадцатого года.
Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через три недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, членом Крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно.
Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал.
Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными, анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто—то входит. Отец, подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь, изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева.
Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупный человек и, как мне показалось, в халате.
Видно было очень смутно — старик; лицо его было очень белым и как будто немного светилось. Было страшно, очень страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто—то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали: прадед Шинарарян.
Мама рассказывала тебе об этой удивительной ветви ее предков, которые строили все армянские храмы. Он как—то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: »Пусть все уезжают, а ты, деточка, останься. В Феодосию поедешь. Ничего не бойся«. И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак спешил и не успел целиком сложиться.
Так все и было, Медея. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, я с мамой осталась.
Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, извозчик покойной княгини, в квартире которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород, к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез.
До Феодосии мы добирались две недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в родной дом, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены.
Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом. Ни мама, ни папа мне никогда даже во сне не приснились, наверное, оттого, что сплю я слишком крепко, никаким снам до меня не достучаться. Какое же счастье тебе, дорогая Медея, даровано — такой живой привет получить от родителей.
Ты не смущайся, не пытай себя вопросами — зачем, для чего… Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала твой любимый отрывок из Апостола, про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, в Крыму руку над нами держал, а здесь, в Азии, все по—другому, он далеко отстоит от меня, и церковь здешняя как пустая… Но грех жаловаться, все хорошо.
Наташа болела, теперь почти уже выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня одна новость: будет еще один ребенок. Уже скоро.
Ни о чем так не мечтаю, как о твоем приезде. Может, собрала бы мальчиков да приехала весной?.. Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Артем умывался у медного рукомойника, гремя подвижным соском.
Через несколько минут, разбуженный медным бряцанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея. Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива, все это знали и вопросами донимали ее по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню — разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия.
Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней. Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века, — в этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой.
Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку. Медея поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла.
Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны.
Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубей и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре, но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти, бедные, тем, многоработным, полным болтливого азиатского орнамента. Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поканючить, поныть, но, по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.
Пока вода согревалась на керогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяла в сундучок у изножья кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила, — принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь.
Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость — и, так, давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна, давняя, многолетняя, обида сидела в ней глухой тенью… «Неужели и в могилу унесу? Добормотав последнее, она тщательно, выработанным за многие годы движением сплела косу, свила ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из—под пучка на шею и вдруг увидела свое лицо в овальном зеркале, обложенном ракушками.
Собственно, каждое утро она повязывала перед зеркалом шаль, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодн же — это было как—то связано с приездом Георгия — она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями.
Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла себе челку и ненадолго завела парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомлявшего шею. Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо — внимательно и строго, и поняла внезапно, что оно ей нравится.
В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот; она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, который носила…. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара — длиннолицая с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно—левантийского облика мужчина с чересчур большими для его худого лица усами.
И снова Медея покачала головой: чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела, — это Самуил, дорогой ее муж Самуил ей внушил… Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографии увеличенный.
Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице. Все прошло», — подумала Медея и, отогнав от себя тень старой боли, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Комната ее для всех приезжающих гостей была священна, и без особого приглашения туда не входили. Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно так же, как Медея и как его мать Елена, — наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола, на невычищенном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила этого занятия — чистить медь. Может быть, оттого, что в патине она ей больше нравилась. Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать.
Чашка была тяжелой и нескладной. Это был давний подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой.
Темно—сине—красная, в потеках запекшейся глазури, шершавая, слишком декоративная дл ежедневного пользования, она почему—то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке. Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она приедет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника — поздней дочерью сестры Александры, разница в годах невелика.
Георгий промолчал, хотя и сам думал в этот момент, не сходить ли ему на рынок за вином и какой—нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы. Нет, для мушмулы рано, прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Та кивнула и в молчании допила кофе. Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно—авантюрный вид.
Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком—то детском мольберте. Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит.
Георгий с удовольствием смотрел вверх: трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово—лиловый тамариск, совсем безлиственный. Женщина что—то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз, но не там, где поднимался Артем, а чуть выше, где склон обрывался над дорогой круто и трудно было спуститься на дорогу.
Можно было разговаривать и оттуда, но ей почему—то хотелось спуститься, она замерла над маленьким обрывом. Георгий протянул ей руку:. Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным. Руки ее на ощупь оказались детскими, какими—то птичьими, но удивительно нежными.
И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как и жена Зоя. Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок.
Только у меня денег с собой нет. Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле. Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма.
Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят движения миров, звезд, облаков и овечьих отар. Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все неслось куда—то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира.
О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой не оглядываясь идут два путника, и то, что открывалось впереди: горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки.
И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем; позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов — столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные….
Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться. Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте.
Мать не особенно на этом настаивала, но и легенды не разрушала. Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на Север, прислал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях.
Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, вися на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни.
В занятии этом ему не было равных, все царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский.
Соседские ребята, убедившиеся в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спиленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели. За эти долгие часы он постиг мгновенье броска, знал его наизусть и кистью и глазом и испытывал наслаждение от огненного мгновенья этого соотнесения руки с ножом и желанной точки, завершавшееся дрожанием черенка в сердцевине цели.
Иногда он брал другой нож, тяжелый, кухонный, и выбирал другую цель, и нож с хрустом, или со стоном, или с тонким свистом входил в нее. Старый материнский дом, и без того ветхий, был весь в шрамах от его мальчишеских упражнений. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи. Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного: писуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картина с голым, без кожи, человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками.
Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо — по тем временам — оборудованный спортивный зал. Перекладина, брусья и кожаный конь стали его любимыми предметами с пятого класса.
В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как музыкальная, поэтическая или шахматная. Но тогда он не знал, что его талант ценится ниже, чем дарования интеллектуальные, и наслаждался успехами, все более заметными с каждым месяцем. Преподавательница физкультуры направила его в секцию ЦСК, и к Новому году он уже участвовал в первых соревнованиях. Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности — он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами.
К четырнадцати годам он был замечательно сложенный юноша, с правильным лицом, коротко, по спортивной моде, остриженный, дисциплинированный и честолюбивый. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место.
Он не знал важных вещей, прекрасно известных его тренеру: тайной механики успеха, высоких покровительств, судейских зажимов, бесстыдства и продажности в спорте.
Две десятые балла, отодвинувшие его на второе место, показались ему столь жестокой несправедливостью, что он, скинув с себя в раздевалке бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голое тело. Один из его старших сотоварищей — Бутонов был в сборной самым юным — раскрыл ему тайную сторону этого несправедливого поражения.
Это был сговор, и тренер был припутан. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята — не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Теперь Валерий и сам прозрел. Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Целыми днями он лежал под грушей, все обдумывая, как так произошло то, что произошло, и получил через неделю откровение: нельзя ставить себя в положение зависимости от других людей или от обстоятельств.
Окажись над ним смоковница, может быть, откровение имело бы более возвышенный характер, но от русской груши большего ждать не приходилось. Через две недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия — и каждое утро испытывал восторг пятилетнего мальчика, впервые приведенного в цирк.
Учебный манеж был вполне настоящий: так же пахло опилками, животными, тальком. Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде мир — вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи, каждый стоил столько, сколько стоила его профессия: воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью. Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он, со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо.
Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто. Он не смог бы сам до конца это сформулировать, но глубоко понимал, что на вершине мастерства, в пространстве абсолютного владения профессией, располагается крошечная зона независимости. Там, на вершине Олимпа, находились звезды цирка, свободно пересекающие границы стран, одетые в невообразимо прекрасную одежду, богатые, независимые.
Цирковое училище и по сей день вспоминает Бутонова. Всю цирковую науку он осваивал играючи — акробатику, жонглирование, эквилибр, и каждая из этих наук претендовала на Бутонова. В гимнастике ему не было равных. С первых же месяцев учебы его звали в готовые номера. Он отказывался, потому что уже точно знал, кем он хочет быть — воздушным гимнастом. Все, что он ни делал, он соизмерял с броском ножа, со знакомым ему с детства мгновением истины — дрожанием черенка ножа в сердцевине цели….
Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского коробейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони.
По-простому звали его Антоном Ивановичем. Родился он в трехосном фургоне, на линялой сине-красной попоне шапито, по дороге из Галиции в Одессу, от наездницы и акробата. Многие глубокие морщины вдоль и поперек покрывали его лицо и были столь же затейливы, как и многочисленные истории, которые он о себе рассказывал.
К концу второго года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте. Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке.
Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и невесть откуда взявшееся благородство рук… и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу. А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему.
Все здесь было так обнаженно, так близко: выбритые подмышки и паховые складки, мускулистые ягодицы, маленькие плотные груди. Его сверстники, юные циркачи, наслаждались плодами сексуальной революции и артистической свободы, процветающей на задних дворах социализма, в оазисе Пятой улицы Ямского Поля, а он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо.
Антон Иванович вводил его в программу своего сына. Джованни — Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая блядовитая жена Лялька язвила:. С отцом у младшего Муцетони отношения были непростые.
Много лет они работали вместе, Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен.
Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением:. Эта часть профессии была чрезвычайна важна: работали они под куполом, и хотя страховка была двойная — лонжи, пристегнутые к поясам карабинами, и сетка, — разбиться можно было и об сетку. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший, по своей природе, первопроходцем.
Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н. Сейчас, когда все цирковые готовились к большому цирковому фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу: восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны.
С неохотой подчинился Джованни отцу — заставил-таки его старик работать с полной отдачей. У Валерия, постоянно присутствующего на репетициях, просто мышцы дрожали — так хотелось ему себя попробовать в этом длинном и сложном полете, но Антон Иванович и говорить об этом не хотел. Держал его в паре с племянником Анатолием, делали они встречные полеты синхронно, четко, но этим никого нельзя было удивить — все воздушные гимнасты этот номер работали.
Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но наконец настал день, когда поехали в Измайлово, в Центральную дирекцию, сдавать программу художественному совету. Решалась поездка в Прагу — для Бутонова первый выезд за рубеж. В дирекции стояла большая суматоха — съезд цирковых звезд и циркового начальства.
Все нервничали. Время уже близилось к показу, Антон Иванович полез наверх, осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы.
Инспектором манежа был старый его конкурент Н. Ване была отведена отдельная уборная, Валерию с Толей — другая, в третьей разместились женщины, их было трое: две молодые гимнастки и двенадцатилетняя Нина, дочь Вани, несомненная будущая прима. Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань: какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал.
Анатолий подошел к двери, послушал:. Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло. Через несколько минут в их уборную постучали, всунулась Нина:. Грим был обыкновенный, как всегда: желтовато-розовая основа, а на ней два нежно-малиновых крылышка искусственного румянца да густообведенные синим, подтянутые к вискам глаза. Валерий развернулся, вышел в коридор; из двери Ваниной гримуборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке.
Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через десять минут был выход. Все шло точно, было разыграно по секундам: вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет… Партитура была вытвержена, даже до вдоха-выдоха, и все шло отлично.
Джованни в этом номере берегся, стоял враспор, под куполом, на верхотуре, как бог, держал на себе свет, пока молодежь порхала. Не все члены художественного совета видели этот номер, он уже лет десять не исполнялся.
В режиссуре старый Муцетони очень понимал, все обставил эффектно: свет гибкий, плавает, музыка поддерживает, потом разом — полный обрыв, весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте, вырубка музыки на самом максимуме звучания.
Джованни весь блестит, голова в золоте, на ногах — поножи: хороший художник ему придумал такую обувку, чтобы скрыть врожденную кривоногость. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову — демон, чистый демон… Мгновенное движение руки к поясу — проверка карабина. Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось — слишком долго он карабин проверяет, что-то не так… Но пока все во времени, без опоздания. Дробь смолкла. Раз, два, три… лишняя секунда… трапеция уходит назад… замерла… толчок… прыжок… Джованни еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота… точно….
Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на двадцать, не успевает, тянется в полете за трапецией, пытается догнать — чего никогда не бывает — и вылетает из отработанной геометрии, летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее — тряхнет, сбросит… Об край… точно…. Сетка спружинила, подбросила Ваню — не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать… Провал, конечно, провал… но не разбился…. Но — разбился. Опустили сетку.
Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин — собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая — череп, позвоночник? Положили на доску. Повезли в лучшее место по черепным травмам — в Институт Бурденко. Антон Иванович поехал с сыном. Валерий увидел своего мастера только через две недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги.
Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Черная мысль не покидала его: он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком. Про себя он знал, что его такой случай не сбил бы, смог бы нервы удержать. То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил. К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа Н.
Валерий навестил Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге, — от подбородка до крестца. Волосы поредели, две глубокие залысины поднялись ото лба вверх. Моргнул — привет. Почти не разговаривал. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел минут десять на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать. Бе-ме — и замолчал.
Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался. О том, что залегает глубже всякой истории, всякой политики, глубже логики, глубже этики — механизма, с известной степенью надёжности защищающего от хаоса, особенно внутреннего, от живущих в человеке разрушительных сил — совершенно неотделимых в своём истоке от его витальности, от сил животворящих.
Человек у Данишевского беззащитен, он — с содранной кожей, кровоточащими нервными окончаниями наружу. Среди сметаемых текстом границ первейшие — между «дозволенным» и «недозволенным», «приличным» и «неприличным». Он выжигает самую возможность успокоительных иллюзий, срывает защитные механизмы, превращая и читателя, который вздумал бы чутко следовать предлагаемыми им путями, в сплошную разверстую рану.
Он прямо называет неназываемое, заставляет — себя и нас — смотреть на то, от чего человек уже из простых соображений сохранения душевного равновесия склонен отводить глаза. Эта книга — своего рода роман воспитания: повествование о том, как в нежности проступает желание, как оно делается всё настойчивее, пока не разрывает саму структуру мысли и фразы. Отсюда и устройство книги — движение от идиллий детских лет, заставляющих вспомнить о столь же идиллической «Духовке» Евгения Харитонова, к разорванному густому синтаксису стихотворных отрывков, где в полной мере проступает весь инструментарий новейшей поэзии.
Для Данишевского всё, однако, лишь приёмы — инструменты, при помощи которых он стремится передать собственное чувственное содержание, которое, нужно сказать, довольно сильно поменялось со времён первого романа «Нежность к мёртвым». Если в этом романе писатель возрождает самые абсурдные и болезненные образы, вступающие в своего рода резонанс с его внутренним состоянием и притом остающиеся лиричными, то в новой книге он словно бы стремится дать читателю наиболее прямой доступ к собственной чувственности не говоря при этом о себе ничего лишнего — всё это далеко от нарциссической дневниковости девяностых , причём происходить это может по-разному — как при помощи намеренно ясного письма, так и посредством нагнетания разрывов, сбоев внутри речи, создания особого рода «пружинящего» языка, который беспощадно заимствует слова и образы других поэтов, чтобы парадоксально оставаться самим собой.
В предисловии к этой книге Елена Фанайлова сравнивает Илью Данишевского с современным рэпером, но гораздо важнее, что она вспоминает Дмитрия Волчека, с поэзией которого Данишевского роднит многое: прежде всего, любование распадом старого? Для Волчека это была культура классического русского модернизма, для Данишевского — воспоминания о частном прошлом детство-юность и настоящем влечение. Конечно, это вечная тема любой литературы, но сегодня, в ситуации политической ангедонии, она обретает особую остроту и пронзительность не только у Данишевского.
Большинство текстов Данишевского построены как в пределе бесконечные, порой невыносимые скольжения дефиниций, которые в конечном итоге прорывают референцию: грубо говоря, поэт стремится создать тексты, которые не должны быть напечатаны. Кроме того, по-видимому, сильна в его текстах и терапевтическая составляющая, которую Данишевский — и это смело — не скрывает: быть сегодня — значит испытывать боль от переживаний, прикосновений, взглядов, вкусов, и нечего об этом молчать.
Это очень своевременная книга: в ней смешиваются все более или менее релевантные литературные не только поэтические языки, которые стремятся описать — подхватить — подцепить то, что отчаянно сопротивляется описанию и репрезентации. Илья Данишевский написал очень нежный текст. Уверен, в этом месте многие ошиблись и прочли «важный».
Конечно, важный, но мне хотелось бы отметить нежность книги. Поэт будто открыл секрет противоядия, превращающего горькое, смердящее, опасное и смертоносное в медовое пьянящее вино. Ощущение токсичности от лексики пропадает сразу же. Можно даже заподозрить, что автор умышленно обрызгивает территорию зловонной жидкостью, чтобы чужаки с отвращением удалялись, но такой задачи Данишевский явно не ставил, для него, как мне показалось, не существует чужаков.
Что-то происходит с самим веществом насилия в текстах Данишевского, изменяется структура вещества, всё перегнивает и перерабатывается в питательный слой для новой жизни, становится нежным.
И главным инструментом в этом процессе является память. Общеизвестно, что человеку свойственно забывать об ужасном, стыдном, болезненном, что, защищаясь, память сохраняет только хорошее. В итоге человек почти ничего не помнит о своей жизни, ему нечего вспомнить одинокими вечерами, он всё забыл. Впечатления от прочитанной книги могут быть не связаны с содержанием, не завязаны на него. Книга — такое пространство, где что-то постоянно происходит, о чём-то, о ком-то сообщается, рассказывается, в любой книге попадаются пустые страницы, оставленные незаполненными для воздуха, но никто не предложит вам прочесть книгу, где все страницы пустые, белые, на них нет букв, точек, запятых.
В определённом смысле на страницах «Маннелига в цепях» нет букв, точек, запятых. Совершенно неважно, в ситуации, на которую хочу обратить внимание, о чём «Маннелиг в цепях» и какие средства использует автор для достижения целей, — цели автор в моём случае достигает, каких-то почти медицинских, донорских целей.
При чтении текста рождается волнение достаточно редкое в наши дни жизнестроительное волнение. Это чувство возвращается каждый раз, когда соприкасаешься с книгой. Будто сосредоточенно вводишь пароль, состоящий из ста пятидесяти или больше тысяч символов. Мир, в котором мы живём, лишён надежды. При этом далеко не каждый человек находится в смертельной опасности, но надежда нужна даже благополучным людям, чей горизонт будущего условно безоблачен.
Надя Делаланд. Мой папа был стекольщик Предисл. Только на первый взгляд эти стихи кажутся лёгкими зарисовками, искрящейся эмоциональной поэзией, с добавлением нескольких сюрреалистических моментов.
На самом деле — это поэзия о больших событиях, даже об эпифаниях счастья или несчастья, или исследование, как можно здраво говорить о случившемся после пережитого. Сквозной сюжет — растерянность перед инобытием, которое вдруг открывает себя в самых разных вещах, безделушках или документах.
Поэзия Нади Делаланд избегает серийности или сериальности, точнее, она должна начаться за пределами кадра, тогда как в кадре всегда печаль текущего дня, который уже стал совсем другим, чем прежний, с отсылкой к евангельским лилиям полевым, не заботящимся о завтрашнем дне.
То, что делает Надя Делаланд, можно сравнить с мэшапами по викторианским романам, с зомби в гостиных, но только у нашего автора существа из иного бытия никогда не только не воюют, но даже не подглядывают за нами, как изображают обычно инопланетян.
Напротив, они всегда скромны, это аллегория смущения, а не образность превращённых социальных отношений. Надя Делаланд — мастер любовной лирики, которую отличает от привычной женской лирики очень чёткая артикуляция не только обстоятельств, но и рутинных действий: не только страх и путаница, но и поиск и обходительность, милость и задумчивость, и всё выражено очень хорошо сценарно продуманными жестами.
Столкновение ребёнка со смертью — важная тема, детский взгляд на горе, но это одновременно столкновение памяти с тем, что останется навсегда памятно. В зеркалах Нади Делаланд я не устаю узнавать себя, я могу критиковать темы и решения, но я не могу закрыться от этой поэзии. Метафорика стекла, со всеми сопутствующими смыслами: ломкости и твёрдости, прозрачности, отражения — значит, и повторения, светоулавливания и светоносности, лёгкости, способности ранить Вообще же, в отличие от материала-эпонима с его холодом и несомненной статикой, книжечка очень живая, подвижная, дышащая, так и хочется сказать — «органическая»; главенствующая в ней стихия — воздух и вслед за ним, совсем с небольшим отступом — вода: дождь, море, лужи Огонь — разве что в облике всепроницающего света зато его — много.
Земли — почти не разглядеть. Есть и ещё одна сквозная тематическая линия: детство — как коренное просвечивающее сквозь всё остальное — старость, зрелость, что угодно состояние человека, и даже не только его: оно, дерзает утверждать поэт, — истинная сущность самого Бога! Вероника Долина. Букет гарни: Cтихотворения М. Новая книжка известной поэтессы и деятельницы бардовского движения названа традиционным в кулинарном деле наименованием пучка душистых прованских трав конгениальна названию и обложка книги ; читателю следует поэтому ожидать домашне-необязательных либо буколических тем, и читатель не вполне обманется, хотя перед нами всё-таки специфический тип минус-приёма, самоумаления поэтического «я», сведённого к функции быта.
Сугубо интимные, мимолётные переживания предстают у Вероники Долиной способом описания жизни в целом, а отдельные вещички оказываются синекдохами судьбоносных коллизий. Владимир Друк. Формы, числа, номинации Предисл. Стоящая особняком в двух традициях сразу — русской поэтической и еврейской религиозной, принадлежащая обеим в равной степени, книга Владимира Друка продолжает обе, соединяя с еврейской мистикой русское слово.
Что, может быть, ещё более ценно, — оно соединяется с нею без малейших признаков экзотизации или этнографичности: не как с «чужим» или «другим», но включая её в себя как опыт универсальности. Следуя каббалистическому представлению о том, что Всевышний творил мир с помощью букв, Друк видит в буквах еврейского алфавита мирообразующие сущности, к чему имеет прямое отношение сама их форма. Каждую из них он поэтически выговаривает как формулу одного из аспектов существования.
Друк возвращает здесь поэзию к её самому глубокому, первоначальному смыслу — тому, что предшествует и эстетическому, и социальному, и всякому другому, и родствен смыслу магическому, демиургическому.
Это — прямая речь об истоках мира, то есть о том, что для нашей культуры составляет, скорее, предмет философской рефлексии и о чём кажется гораздо более естественным высказываться в жанре, например, метафизического трактата средствами более рациональными, спрямляющими, а значит, неминуемо огрубляющими предмет.
Говоря о превосходящих разумение истоках мира со смиренной дерзостью мистика, поэт и не мыслит вывести эти предметы из принципиального для них статуса тайны. Он только прикасается к тайне, переживает её именно как тайну. Первый и главный Адресат этой речи — сам Творец и здесь тексты Друка — в существенном родстве с молитвами, хотя и не тождественны им. С Адресатом у говорящего, однако, крайне нетипичные отношения: он ничего у Него не просит; он даже не покоряется Ему, не отдаётся в Его власть: он пытается Его понять.
Он обращается к Нему — с первых страниц — как к собеседнику. Михаил Дынкин. Метроном М. Третья книга живущего в Израиле поэта построена как своего рода система пересечений отдельных метасюжетов, характерных для авторского мира в этом смысле называние имеет отношение не столько к измерению времени, сколько к схеме метрополитена: сам автор указывает на линии этой схемы и даже на схемы возможных пересадок, т. Поэзия Михаила Дынкина густая, насыщенная, но, кажется, только это сближает автора с некоторыми иными израильскими авторами: практически никаких гебраистских отсылок мы здесь не найдём, зато обнаружив большие циклы, связанные с мифологическим бестиарием, медиевиальными концептами и научно-фантастическими мирами.
Вадим Жук. Эти и другие стихи М. Актёрская поэзия заведомо подозрительна, как подозрительна и вынесенная в аннотацию похвала Виктора Шендеровича. Несмотря на это, новая книга Вадима Жука неожиданна: от эстрадного иронизма прежних текстов автор пришёл в новых стихах по крайней мере, в лучших из них к вполне жёсткой антропологической поэзии.
Мир, представленный Жуком, что в прошлом, что в настоящем наполнен агрессией и насилием, но и любовью, пропущенной сквозь отчаяние, — которые автор поэтически исследует, избавившись от ложной сентиментальности.
Кирилл Захаров. Грошовый словарь суеверий NY: Ailuros Publishing, Кирилл Захаров — исследователь авангарда и выросшей из него детской литературы и один из двигателей легендарного московского книжного «Гилея» почившего около пяти лет назад.
Стихи он публикует нечасто, и эту книгу нужно рассматривать, видимо, как промежуточный итог его пути как поэта. Половину её занимает цикл прозаических абсурдистских зарисовок, а остальная часть напоминает своего рода каталог жанров и интонаций мирового авангарда и того, что генетически произошло из него, включая творчество покойного товарища Захарова Яна Никитина, основанное на технике, напоминающей о классическом потоке сознания.
Каждый из этих жанров ценен для Захарова тем, что позволяет отразить фрагмент опыта современного человека вообще и его собственного, в частности. Можно сказать, что поэзия для Захарова — это своего рода прикладная антропология, позволяющая поэту исследовать себя самого. Ольга Злотникова. Радогощенский дневник Мн.
Вторая книга минской поэтессы включает стихи, написанные за лето года с апреля по октябрь и расположенные в хронологической последовательности, прилагательное в названии, вероятно, относится к деревне, в которой это лето прошло. Преобладающий белый стих, с немногими отступлениями как к верлибру, так и к рифме, задаёт дневнику единый тон, а наблюдения за окружающей природой, маленьким ребёнком и собственной душевной жизнью стабильно возвращаются к одному и тому же мотиву хрупкости мироздания; лишь для общественных установлений любого рода у автора не находится доброго слова.
Инна Кабыш. Марш Мендельсона М. В новом сборнике известного московского поэта меньшее по объёму, но центральное место занимают стихи последнего времени.
При всей кажущейся завершённости стихотворения Инны Кабыш представляются фрагментами некоего лирического дневника и более эффектны именно в совокупности. Вторая часть книги — старая, но не публиковавшаяся «поэма в диалогах» «Крестный поход» и четыре стихотворные пьесы, посвящённые Моцарту и различным мифологическим сюжетам Медея, Федра, Елена ; в последних наиболее интересен своего рода «бытовой» взгляд на канонических персонажей греческого мифа.
Геннадий Калашников. В центре циклона М. Геннадий Калашников — поэт-метафизик, поэт-натурфилософ с речевой повадкой лирика.

В его последнем, совсем небольшом, но концентрированном сборнике метафизичность, может быть, наиболее отчётлива, и, надо полагать, это намеренно: автор собрал в книжечке — осторожной, прозрачно-акварельной по интонациям — принципиальные для себя тексты среди которых читатель узнаёт и давние: «Мыс Меганом», «Проговори: море», «Millennium» Предмет его поэтического внимания — отношения между человеком и миром как большим целым, чутко внимающим человеку; первостихии, образующие мир: вода, воздух, огонь, земля; свет и тьма; жизнь и смерть.
Интересно, что эти стихи почти не затронуты историей в её суетных актуальностях. Разве только иногда мелькнут приметы текущего обихода — вроде метро или троллейбуса, «президента или генсека»; не слишком скрытые, но не слишком и частые цитаты из прочитанного, да валуны, оставленные Большой Историей при её прохождении, вроде далёких в пространстве и времени Древней Греции и Китая.
Но речь в целом ведётся из всевременья — таинственно-непарадоксальным образом совпадающего с сиюминутностью, с текущей погодой и временем суток. Поэт сосредоточен на существенном: «есть только свет и тьма, обведённые мелом». Говоря о крупных — до предельности — вещах мира, Калашников никогда не повышает голоса — даже когда тот дрожит от напряжения. Он крайне редко бывает горяч и страстен но всё же бывает — как в раскалённом стихотворении «Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр Вообще же для него характерна интонация меланхолически-отстранённая, дистанция, с которой он наблюдает всё, о чём бы ни говорил: из «центра циклона», в котором, как известно, — глубокая, не колеблемая событиями, свободная даже от личных и биографических черт наблюдателя — точка покоя.
Максим Калинин. Новая речь Послесл. В сборнике Максима Калинина в хронологическом порядке представлено пять его прежних книг и не входившие в них тексты. Тонкий диалог с поэтической традицией так или иначе обыгрывает даже самые конвенциональные формы так, в «Сонетах о русских святых» канон твёрдой формы, накладываясь на тематический канон, даёт неожиданный эффект остранения. Работая преимущественно с силлабо-тоникой, Калинин изредка обращается и к свободному стиху чем-то отдалённо напоминающему поэтические зарисовки Бориса Кочейшвили.
Ян Каплинский. Наши тени так длинны: Стихотворения и переводы Предисл. Эта книга — довольно объёмное избранное эстонского поэта Яна Каплинского, в последние годы перешедшего на русский язык. Каплинский знаменит как едва ли не самый крупный поэт послевоенной Эстонии, активно публикующийся начиная с середины х и, в целом, гораздо более близкий к западноевропейской поэзии того времени, чем к русскому контексту своей эпохи.
В позднем русскоязычном творчестве Каплинский парадоксальным образом встречается с русской поэзией: за полвека его работы она своими путями пришла к тем же вопросам — о природе языка и памяти, о том, способна ли поэзия быть формой мысли и способна ли удержать мир от распада.
Эти вопросы высокого модернизма тоже, конечно, не совсем сегодняшнего происхождения, но они актуальны для значительной части новейшей русской поэзии, с которыми стихи Каплинского вступают в резонанс в том числе и для Сергея Завьялова.
Первый раздел книги содержит эстонские стихи, которые уже публиковались на русском языке в переводах Светлана Семененко в самом конце советской эпохи, но для настоящего издания были заново отредактированы и, возможно, приближены к тому Каплинскому, которого читатель знает по недавним русскоязычным сборникам. Тем не менее, можно заметить, что молодой Каплинский был куда более социальным поэтом: кроме родного Тарту, постоянного предмета его поэтического внимания, в его стихах мелькают все те регионы мира, в которых трагическая история ХХ века всё ещё длится.

В основном, это Азия — Вьетнам, Бенгалия и другие страны, — которой поэт всегда глубоко интересовался, пытаясь воспроизвести на эстонском языке некий аналог восточной «созерцательной» поэтики, прочитывая её через призму экзистенциализма и присущей ему меланхолии.
Эти приметы времени показывают, что поздняя «меланхолическая» манера Каплинского, навязчиво возвращающаяся к несовершенству мира в попытках скрепить его снова поэтическим словом, вырастает на фоне своего рода ужаса от кровавой истории ХХ века, которая и не думает прекращаться после Второй мировой войны. Живой классик эстонской поэзии Ян Каплинский за последние десять лет написал три книги на русском языке.
Представленный сборник одновременно и становится третьей книгой — в смысле «третьей изданной книгой», и включает как одну из составных частей третью книгу — в значении «третья из написанных книг» соответствующий раздел носит название «Третья книга стихов». Помимо этих трёх книг, в сборник вошли полторы сотни переводов с эстонского, охватывающие лишь малую часть написанного поэтом на родном языке. Завершают том избранные переводы на русский язык, выполненные Каплинским от эстонских народных песен до произведений китайского поэта Ли Бо.
Это собрание сочинений предваряется содержательным предисловием Сергея Завьялова, знакомящим читателей не только с творческим путём автора, но и с историей эстонской поэзии и культурным контекстом, в котором формировалась, видоизменяясь, но не теряя своих отличительных свойств, поэтика Яна Каплинского.
Сравнивая судьбу Каплинского с развитием поэзии на русском языке в советском контексте, Завьялов обнаруживает главное отличие: Каплинский, по его мнению, доказывает подвергаемую сомнению с русской стороны возможность непосредственной лирики в современных условиях. Игорь Караулов. Ау-ау: Стихи года М. С одной стороны, Караулов пытается быть «имперским» поэтом, но само его поэтическое зрение и чувство юмора мрачное ставит саму эту номинацию под вопрос. С другой, для него ценна традиция мизантропической поэзии Владислава Ходасевича и Георгия Иванова кого больше — тема отдельного разговора.
С третьей же стороны, эта поэтическая идеология восходит к клубу «Поэзия» и продолжается в рамках тематических интернет-сообществ, то есть имеет под собой некое понимание о возможной социальной общности разных людей и компромисса между ними. Этими темами, лейтмотивами и идеологемами проникнута вся книга, заголовок которой как бы ищет того или ту, кто сможет глубоко и беспристрастно в этом клубке противоречий разобраться.
Эта книга будет читаться по-разному в зависимости от того, какая будет выбрана ширина контекста. Вместе получается иронический макабр в духе незабвенных текстов раннего Игоря Иртеньева вроде «Нового года в Кремле». Но это всё только фрагмент картины, отнюдь не дающий полного понимания. Лишь подключив к корпусу текстов Караулова его верноподданнические политические памфлеты в прежних «Известиях», разогнанных начальством за излишнее усердие, — мы получим верную систему отсчёта, в том числе конкретно для стихотворения про Подольск и Лос-Анджелес, суть которого в том, что Подольск со всем его говнецом — Родина, и променять её на чуждый небосвод могут только дамы лёгкого поведения и бездушные бухгалтера.
Именно эти «всё равно» и «не вспомнят» позволяют Караулову, публицисту настолько солидарному с институтами подавления и отвержения, насколько это возможно, не просто примерить на себя роль подавленного и отверженного, но подробно исследовать соответствующее самоощущение. А вот эти, которые не желают идентифицироваться с народцем читай: с вождём и потому подвергают бедного поэта гонениям, — они же просто прикидываются беленькими, тогда как на самом деле тут все чёрненькие: «Ад не без добрых людей, говорят.
Ведь совсем был бы ад. Но протащить её к будущим читателям не роботам без развёрнутого комментария будет сложно. И такое впечатление, что о гражданских и политических ориентирах этих читателей поэт Караулов уже сейчас догадывается.
Ия Кива. Подальше от рая: Cтихотворения Предисл. Книга украинского русскоязычного поэта, родившейся в Донецке, с лета года живущей в Киеве, — репортаж на двух языках изнутри катастрофы, её подробная физиология, её быт, фиксируемые с беспощадностью естествоиспытателя только это естество приходится испытывать на себе, видеть болевым зрением всего тела.
Сквозь принципиальную бесстрастность авторского взгляда пробивается жуть, дающаяся только фольклорным интонациям с их тёмными, хтоническими корнями. Это поэзия рухнувшего мира, жизни на его обломках. Катастрофа сливается в восприятии поэта с Холокостом: случившийся задолго до рождения автора, он переживается как личный, чуть ли не сиюминутный чувственный опыт. Всё-таки Геннадий Каневский не совсем прав, говоря о её бесслёзности: есть в ней и плач по убитому миру, по его людям таково, например, стихотворение, посвящённое Я.
Упорно кажется, будто в этой неначатости, неначинаемости Бога есть если и не надежда, то, по крайней мере, возможность того, что будущее — совсем новое, невиданное — будет. В книге Ии Кивы, родившейся и жившей в Донецке, но в связи с известными событиями переехавшей в Киев, собраны тексты гг. Кива осознанно работает с травматическим опытом нескольких поколений, проводя линии напряжения от Второй мировой войны к событиям последних лет на Донбассе, от Холокоста к разным видам депривации в современном обществе, от полной поводов для отчаяния семейной истории к мнимой безмятежности социальных сетей.
Кажется, что в поэзии Кивы преобладает голос коллективного бессознательного: её тексты нередко апеллируют к молитвенному чину, дискурсивно восходят к заговорам, причетам, заплачкам, однако безличность конструкций не отменяет субъектность речи и опыты напряжённой авторефлексии. Вектор движения «подальше от рая» уводит от любой возможности самотерапии, оставляя говорящего с ощущением беззащитности и беспомощности перед лицом войны, истории, социума, скрытой и явной агрессии.
Николай Кононов. Пьесы: Книга стихов Послесл. Новая книга петербургского поэта Николая Кононова являет собой альбом, в котором на равных со стихами правах присутствует графика молодого художника Леонида Цхэ, одного из самых узнаваемых современных петербургских мастеров рисунка, чьи ирреалистически изгибистые неопрятно отштрихованные силуэты человеческих фигур и цветовые пятна увлекают, заставляют задуматься над пластикой тела и напрочь выводят созерцателя из зоны комфорта. Сборник разбит на три части.
В первую из них включены стихи года, по преимуществу об утратах, с вкраплениями более ранней эротической лирики. Вторая часть книги, со стихами года актуализирует мужскую телесность, лирически объективируя маскулинность и физиологию тела. Третья книга включает стихи, написанные с середины х по середину нулевых видимо, дальше в поэтическом творчестве Кононова была пауза, вызванная работой над крупной прозой , драматическое произведение «Хоры для Енисея» и горациеву оду, входившую в проект «Поймёднех».
По большому счёту, поэтика новых стихов «длиннострокого» Кононова не очень далеко отстоит от Кононова эпохи «Большого змея». Новая поэтическая книга поэта, прозаика и издателя Николая Кононова, десятая по счёту, «рифмуется», как сказано в аннотации, с первой книгой «Орешник», вышедшей в году. Эта «рифма» — не только в схожести концепта самого издания и первая, и десятая книга созданы в сотрудничестве с художниками , но и в интонации, мелосе и просодии — если первую книгу можно уподобить одной ноте, взятой на музыкальном инструменте, то книга «Пьесы» — это полногласное вступление новых гармонических интервалов и витков мелодического развития в партитуре авторской эволюции, которые, тем не менее, созвучны самым первым поэтическим опытам автора.
Новая книга делает некоторые моменты авторской поэтики ещё более «выпуклыми» — так, связь с золотым и серебряным веками русской поэзии в этой книге осмысляется отнюдь не как повод для невротизации письма, вызванной трактовкой поэтической культуры как системы ограничительных норм и правил, — наоборот, полновесность, полнозвучность речи Кононова оказывается тождественна жизни и свободе бытийствования в культуре.
Значительное место в книге посвящено осмыслению смерти и памяти об умерших про элегические структуры как лирическую доминанту пишет и Александр Житенёв в послесловии , и в этом отношении Кононов обыгрывает классический ход, в котором смерть преодолевается эросом, но делает это, используя богатый инструментарий приращения смыслов, благодаря чему поэтическая ткань ощутимо обновляется.
Этим движениям характерна высокая смысловая плотность, они основаны на ёмких образах — так, например, образ зеркала, подносимого к устам умирающего, известный русской поэзии, у Кононова силами Эроса и витальности поэтической речи «взвинчивается» в область бескомпромиссного преодоления смерти. Жизнь — победительница для того, кто «в губы лобызал зерцало тёплое», то есть целовал себя самого, согретого поэтическим дыханием: так поэтическая речь Кононова призывает поистине животворящий нарциссизм, отсылающий сразу ко многому, в том числе к теме двойничества.
Поэтические книги Николая Кононова — особенно концептуальные, как эта, — выходят нечасто, а сам автор всё больше пишет прозу, достаточно вспомнить вышедшие за последние десять лет романы «Фланёр» и «Парад».
Новый сборник не столько расширяет известный нам по предыдущим сборникам поэтический мир Кононова, сколько укрупняет его, делает более осязаемым и различимым: отдельного упоминания заслуживают картины Леонида Цхэ, дающего собственную визуальную интерпретацию кононовских поэтических текстов.
Центральной темой для Кононова по-прежнему остаётся телесность, прелесть и смрад человеческого тела, обладание которым захватывающе тревожно. Эта тревожность передаётся и ландшафту, городскому или природному, также приобретающему телесные черты, обретающему дыхание или оставляющему после себя отходы. Отношения тела и пространства в поэзии да и в прозе Кононова далеки от гармонии, находятся в распре, которую поэт и стремится уловить, зафиксировать.
В книге «Пьесы» пространство принимает облик конкретной страны, формирующей тела своих подопечных для того, чтобы оставить их без любви, травмировать или отправить на убой. Николай Кононов называет свои стихотворения пьесами, тем самым подчёркивая, может быть, их неотчуждённость как от общего строя речи — не вообще речи, а речи литературной, так и от искусства в целом, его дыхания: ведь пьесы бывают ещё и музыкальные, пьеса — это художественное высказывание как таковое. И в самом деле, эти стихи и невероятно лёгкие, летучие, музыкальные, и плотные, тяжёлые — даже не так: весомые, веские — как комки земли, падающие на прощанье.
Книга начинается со стихотворения «узкого», отчасти напоминающего сонет Владислава Ходасевича «Похороны», и, пожалуй, это не ассоциация читателя, а намеренная авторская апелляция, хотя подобная «узкость», сужающая зрение до коридора прозрения, до туннеля, в конце которого свет, вообще характерна для Николая Кононова.
А дальше стихи то расширяются и тяжелеют, то вдруг резко сжимаются до волосяного моста — по нему, известно, идут души, и не все из них падают. Иван Курбаков. Путь поёт: Первая книга стихов М. Книга Ивана Курбакова отчётливо отличается от других книг серии «Поколение», заодно обнаруживая отдельность этого поэта в своём поколении: соединяя разум и чувства, знание и дисциплину, он стремится писать по-разному, не останавливаясь на однажды найденном способе.
Здесь мы видим срез нескольких способов письма и, что важнее, структурирования материала, к которым прибегает поэт: это могут быть и синкопированные циклы, где сообщение? Они то ли структурируют психику современного субъекта сказал бы юнгианец , то ли вообще держат наш мир, осторожно-трепетное отношение к которому присутствует в этой книге.
Поэзия Курбакова — процедурная, сложно артикулированная, наследующая в первую очередь по словарю и концептосфере поэзии Пауля Целана, а также современным аналитическим и дигитальным практикам. Фигура Целана, поэта, ищущего места, где возникнет поэтическое при интенсификации и совпадении бытийственных устремлений, задаёт вектор исканий поэзии Курбакова. Воспринятая от Целана лапидарность проявляется в создании массивных сложных конструкций, возвращающих слову материальное измерение.
Одна из важных идей Целана — как может поэтическое переходить из одного языка в другой, — у Курбакова реализуется с помощью создания смежных смысловых зон, возникающих от соположения текстов на разных языках — так поэт предъявляет разрыв между языками. Этот однообразный разрыв — место для возникновения чистой возможности. Последнее делает эти тексты близкими к языческому синкретизму.
Языческое при этом следует понимать как сочетание, по Леви-Брюлю, тотальной опредмеченности мира с вытеснением всего, что может нарушить уклад первобытного сообщества, в поле ложной с европейской точки зрения детерминированности. Если в первобытном язычестве слово-предмет — инструмент прямого воздействия на мир, то у Курбакова слово необходимо для размыкания границ — чтобы обозреть место, где «путь поёт».
Так «языческое» возвращает себе исконную этимологию. По сути, поющий путь — это и есть место как длительность — граница. Пока существует длительность, можно не видеть следы пути, продолжая движение: там, где слово делается внутренним, где письмо образует пустой тенистый контур. Разработка языка в таком случае оказывается подчинена необходимости обратиться к поэтическому как таковому, как к месту, как к утопии и нерасчленённости, как к местоимению без референта: никогда наступило.
Каждый текст книги — это возобновление процедур приближения, уточнения для обнаружения этого места. Возможно, поэзия Курбакова — радикальная эсхатология, где всё пронизано ожиданием наступления эстесиса. Тогда кончится череда попыток и исчезнет поэтическое, ведь оно возникает только путём приближения. Если попытки кончатся и Слово воплотится, то безымянность восторжествует. Предметы освободятся от имён, слова от слов: когда бы видимо было сквозь сотворение мира на неинаковой полосе.
Парадоксально, но язык, разработанный Курбаковым, не функционирует как поэтическое, а только указывает на место поэтического. В результате привычная поэтизация оказывается недостаточной. Поэтому у Курбакова возникают иерархии поэтического: он оперирует уже устоявшимися приёмами как модернистской, так аналитической или дигитальной поэзии, но только оперирует — для того, чтобы указать: в сущности поэтическое неизменно — оно всё ещё возникает и исчезает между неартикулированностью и невнятностью.
Дана Курская. Дача показаний Предисл. Главное здесь — доверительная интонация, позволяющая, как разъясняет в предисловии Данила Давыдов, свести тексты к «максимально личному высказыванию». На первый взгляд, поэзия Курской существует между профессиональным и любительским эстрадно-сетевым письмом, располагаясь на полпути от Ники Турбиной к Павлу Лукьянову.
Силлабо-тонические тексты часто убедительны «Коррозия», «Гроза», «Это было у Мити», «Ни одного тревожного симптома», «Когда ты, будучи пьян Александр Кушнер.
Над обрывом: Книга новых стихов М. К другой важнейшей для себя идеологеме Кушнер также вновь и вновь обращается в новой книге: это бег от трагизма, отказ признавать за трагизмом творческий смысл так примерно Кушнер рассуждал в своё время о гибели Мандельштама , уходящий корнями в вульгаризованную форму советского атеистического гуманизма, хотя в сегодняшних обстоятельствах уже и не вполне атеистический.
Денис Ларионов. Тебя никогда не зацепит это движение Харьков: kntxt, О второй книге Дениса Ларионова можно сказать, что она продолжает первую «Смерть студента» , но логика этого продолжения — такая, что уяснить её можно только постфактум. Иными словами, она не слишком прогнозируема. В новых стихах Ларионов движется в сторону большей фрагментарности опыта, размышляет о сверхтравматичности микрособытий: «Холодная до спазма в горле война.
Привычный социальный, политический, конфликтный язык применяется к бытовым событиям и по-новому их расцвечивает — отыскивает, подобно металлоискателю, в них зёрна конфликтности, потенциал тотального дискомфорта.
Понятно, что в каком-то смысле это игра в беспроигрышную позицию; понятно, что эта игра — проблематизация уязвимости или даже многочисленных уязвимостей. Собственно, вся книга — смелое, с открытым забралом, признание этого факта. Больше того, среди уязвимостей — и та, что грозит самой маске индифферентности: круг замыкается. Многочисленные сообщения об актах насилия, убийствах, «ссадинах, кровоподтёках» в какой-то момент перестают «цеплять», но движение, которое «никогда не зацепит», могло бы быть и движением сострадания.
Таким образом, насилие достигает цели, беря массой, задавливая человеческую эмпатию. То есть — предпочёл радикально исказить собственную оптику, но и увидел в этом проблему. Тексты новой книги Дениса Ларионова не демонстрируют радикально новый срез индивидуальной авторской поэтики, но намечают давно разрабатываемую Ларионовым форму работы со словом, осуществляемую на границе диагностики аффекта и внимательной дискурсивной фрагментации.
Не обращаясь к популярной критике антропоцентризма, книга удерживает внутри себя напряжение исключительно «человеческой» проблематики, пусть и ощущаемой в момент травматического столкновения вплоть до слипания с вещами, которые могут восприниматься как несоразмерные человеку будь то информационный шум или окружающие катастрофы. Отсюда форсирование в текстах телесных и психических эксцессов, проблем языка, речи и памяти, которые должны сделать осязаемым этот опыт «выгорания в склейках» современности.
Особенность поэзии Ларионова в том, что телесное и психическое здесь рассмотрены сразу с двух позиций: одновременно изнутри и снаружи, аффективно и аналитически. Это соседство различного, обнаруживая почти барочное напряжение, даёт доступ к любой вещи одновременно через иронию и вполне серьёзное ощущение всеобщей травматичности.
При этом в любом явлении открывается автоматизм его существования: в эмоциях «но разъята машина страха» , в функционировании тела «на берег нёба, патрулируемый машиной глотка» , в письме «переписал несколько автоматических раз». Наблюдение этого, с одной стороны, позволяет конструировать субъектность текста «удерживать некое я в сыреющем воздухе» , но, с другой, как аффективная судорога содержит в себе некоторую машинность движений, так и автоматическая регистрация не может служить абсолютным устройством анализа.
Закономерно поэтому, что аналитика языка здесь уже не вскрывает замкнутость дискурсивной ситуации вокруг поэтического текста, как это можно было видеть в концептуалистском письме. Напротив, это тексты располагаются на фоне количественно избыточных дискурсов, которые перебивают сами себя и нарушают целостность друг друга.
Оттого здесь по отношению к анализу не меньше, чем к анализируемому есть дистанция, не позволяющая увидеть в нём единственный источник высказывания. Однако именно она даёт место новому опыту. Виталий Лехциер. Своим ходом: после очевидцев Предисл. Ларионова; послесл. В этой книге Виталий Лехциер предстаёт совсем другим поэтом, чем раньше, — острым, современным, чувствующим себя уверенно внутри тех тем и практик, к которым в последние годы поэзия подходит по всему миру, но зачастую робко и несистематично.
Прежде всего, это так называемая «документальная» поэзия — то есть та, которая нацелена на фиксацию чужой речи, превращение её в поэтический материал.
При этом новая поэзия Лехциера непосредственно вырастает из его учёных занятий — прежде всего, из медицинской антропологии, которой он в последнее время уделяет много внимания. Можно сказать, что эта книга — что-то вроде каталога различных видов документального письма: она начинается с поэтизированных транскриптов интервью с людьми, страдающими от хронических недугов, и описания их случаев эта часть заставляет вспомнить о поэзии Лиды Юсуповой , продолжается моментальными фотографическими снимками людей и обстоятельств цикл «Круговая диаграмма» , монтажом тем и цитат с научных и не только собраний, в которых участвовал автор цикл «Непосредственный участник» , и завершается эпосом «Социалистического наступления», где история семьи поэта реконструируется по письмам и архивным источникам, превращаясь в хронику ХХ века ср.
Все эти способы письма непосредственно вырастают из прежней поэзии Лехциера — сосредоточенной на мелочах, на фиксации повседневности, которая должна говорить сама за себя. Так же «говорят за себя» и чужая речь, и все проникающие на страницы этой книги документальные свидетельства; всё вместе — это своего рода модель мира современного человека, антропологический эксперимент, поставленный поэтическими средствами.
Седьмая поэтическая книга поэта и философа Виталия Лехциера — пример сложно организованного письма, делающего своим центром границы, стыки, болевые швы между разными типами дискурса: сплетениями этих пограничных линий между жизнью и смертью, надеждой и угасанием в каждом тексте творится голос, в котором слышен сплав интеллектуальности и лиризма, вновь и вновь находящего опору в способности организовывать разрозненные типы речи.
На наших глазах подвижный, процессуальный субъект собирается и пересобирается, и алеаторика в этом случае — лишь один из способов обнажить ту степень, с какой определённость и конкретность, обнаруживаемые многосоставной стратегией в разных типах дискурса, тождественны с реальностью.
Эта обретаемая и утрачиваемая тождественность как главное подкрепление того или иного дискурсивного «лоскута» в ткани этих стихов неоднозначна, она нужна и как свидетельство катастрофы, и как часть потенциала надежды, возникающей в то растущем, то стремящемся «схлопнуться» зазоре между дискурсом и реальностью, дискурсом и языком, дискурсом и дискурсом. Однако именно в текстах новой книги она проблематизируется с разных точек зрения. Спрашивая, «можем ли мы надеяться», Лехциер перефразирует Канта в актуальном социокультурном контексте, где телесность играет важнейшую роль, а болезнь, боль, надежда на жизнь и её утрата являются или могут стать ключевыми понятиями.
Именно транспонирование чужой речи, занявшее место лично-исповедального дискурса, позволяет автору продвинуться в их осмыслении так далеко. Лехциер не эстетизирует форму или содержание документов, но находит в них поэзию per se, что и составляет сущностную установку документальной поэзии.
В тех же стихотворениях, где звучит голос лирического субъекта, автор как и некоторые другие поэты, освоившие документальную практику тяготеет к сохранению аналогичной дистанции от предмета сообщения. Субъект в этих текстах — наблюдатель-хроникёр, чья задача состоит в беспристрастной фиксации происходящего вокруг.
Такое «буквальное письмо», как было замечено Жаном Женеттом в отношении предметов Роб-Грийе, препятствует отображению «авторских пристрастий, навязчивых мотивов, символической глубины». Однако если данный метод преобразует вещи в поверхности, по ту сторону которых ничего нет, то подобное описание людей, их состояний и действий как, например, в разделе «Круговая диаграмма» превращает каждый случай в нерассказанную историю, минус-нарратив, который читатель может выстроить или не выстроить сам, — приём, технически противоположный, но онтологически родственный историям болезни из предыдущего раздела.
Сохраняя безоценочную позицию по отношению к предмету речи, автор, казалось бы, ждёт независимого суждения от адресата и даже подталкивает к этому, заключая каждый текст «Круговых диаграмм» в рамку личного вопроса: «если вы узнали, что Однако поставленный перед множеством разнородных и неоднозначных ситуаций реципиент сталкивается с невозможностью обобщающего высказывания о них — той же самой, которая определила и авторское письмо.
Таким образом, не просто девальвируется «оцельняющая» функция художественного письма что не ново , но в который раз, уже на этическом уровне, нам напоминают о недопустимости обобщений, типизаций и ярлыков в отношении любой лично переживаемой боли. Герман Лукомников. Хорошо, что я такой: Почти детские стихи Сост. Бабуровой; илл.
Коли Филиппова. Новый томик избранных миниатюр главного российского мастера игровой и иронической миниатюры состоит, по большей части, из хорошо известных текстов и адресован, в первую очередь, детям и их родителям — то есть аудитории либо новой и непосвящённой, либо настроенной на приятное перечитывание. К моменту опознания и припоминания отчасти отсылает один из элементов оформления книги: часть текстов в ней написана от руки причём чернилами , часть набрана шрифтом, имитирующим машинопись, а остальные — моноширинным шрифтом, который автор всегда предпочитал для своих онлайновых публикаций включая собрание текстов на vavilon.
Иллюстрации, включая напрашивающийся для лукомниковских изданий портрет автора, исполнены в логичном для данного случая примитивистском ключе. Всё течёт Вадим Муратханов. Цветы и зола М. Новый поэтический сборник одного из представителей так называемой ташкентской школы, для всех поэтов которой ср. У Муратханова, по крайней мере в этой книге, такое общее направление сочетается с нарочитой иронией, интересом к формам детской поэзии и их способности «деавтоматизировать» восприятие рутинной повседневности.
Уже в названии содержится ключ: герой книги проходит дистанцию от рождения «цветы» до смерти «зола» , и в этом состоит метасюжет. Основное лирическое событие этого раздела — осознание собственной смертности: «Для чего бодается? Последующие семь глав книги через подростковость, влюблённость, размышления о смысле жизни etc.
С первых строк «Цветов и золы» ощутим позднесоветский поэтический романтизм: как писала когда-то Мария Галина, Муратханов «наследует советской классической лире в самом человечном её изводе». Зато его депрессивная поэзия особо чутка по отношению к миру, полному несправедливости, и откликается на неё метафорами и аллюзиями. Евгений Мякишев. Стихики Предисл. Новая книга петербургского поэта по традиции включает greatest hits брутальнейшие «Взбирающийся лес», «Лопух», «Ботанический сад» и другие стихи, которые Мякишев любит читать вслух , но при этом же и — виртуозно-экспромтные надписи на книгах, собранные здесь в отдельный раздел.
Возможно, это и есть стихики, потому как ничто иное не претендует на малость и попрыгучесть предисловие даёт названию другую трактовку, с приветом античности, но Мякишев явно не про это. Из экспериментального, коим поэт эпизодически разбавляет свои сборники, — здесь текст «Страх», состоящий из односложных слов, остающихся мякишевскими: «" А ты всё спишь, хмырь, всю жизнь спишь, гад!
В чём твой прок, смысл, а? Ты встань и в путь! Да, я сплю. Ну и что? Ведь мой сон, мой дом, а ты, пень, пшёл прочь. Брысь, брысь! Мякишев — совершенно петербургский поэт, и мир его поэзии сопряжён как с природной, так с мифогеографией родного города. Нейролирика: Стихотворения и поэмы Эксперимент Бориса Орехова; сост. Пока нейроискусство покоряет мировые галереи, первый на русском языке сборник нейролирики осуществился как проект нового журнала «Контекст».
Сочинения самообучающегося алгоритма — вовсе не собрание готовых топосов русской поэзии: компьютер легко усваивает ритм при анализе и сопоставлении исходников и показывает, как работает ритм в поэзии разных поколений.
Образцы для кибернетического сочинительства не случайны: от Гомера в переводе Максима Амелина, сурового, лаконичного и даже порой торопливого, до произведений Галины Рымбу, в которых компьютер угадал бойкий артикулированный ритм. Алгоритм нейросети выявил в устройстве русской поэзии самое незаметное и сокровенное: Ходасевич предстал метафизиком, выясняющим соотношение быта и высшей реальности, а Мандельштам — мастером кротких ласковых слов, позволяющих перейти от каприза к созерцанию высших начал.
Данная книга — лучшее средство против импрессионизма в критике. Нейромозгу по-своему удались поэты «Вавилона»: мы не спутаем теперь даже в пределах одной строки их отрешённость от вещей и от речи с позицией Бродского, а их умение создавать каталоги и фиксировать состояния раскрывается как композиционная задача, а не идиосинкразия стиля.
Компьютер показал в вариациях Лесика Панасюка, какой может быть украинская поэзия, а в вариациях Гомера и Ахматовой — каким станет лирическое приключение в наши дни. Он славил ароматный сон. Лиза Неклесса. Феноменология смерти: Несколько заметок Предисл. Эта первая книга московской поэтессы и художницы близка к альбому, тексты в ней предстают в соседстве с картинами.
Половину сборника к тому же занимает вступительная статья, так что места для высказывания у автора остаётся совсем немного. Словом и рисунком Неклесса пытается не унять страх, но разъять разъятое жизнью, передать образами, как умирает город, как умирает культура, как человек — «теперь сирота» — учится понимать жизнь через смерть.
Она чувствует, как ей не хватает ни слов, ни знания кто побывал на оборотной стороне смерти? Если мы говорим о пере открытии языка, то она занимается пере умиранием — отсюда ворох литературных ассоциаций как уже умирали. Ведь и феминистическая культура — это зеркало, разъятие и умирание или преобразование патриархальных установок.
Смерть по Неклессе — это и прошлое, и настоящее, и будущее одномоментно. Майя Никулина. Кермек Екб. В книге летнего классика уральской литературы, культовой фигуры поэтического поколения уральских «восьмидесятников», представлены стихотворения разных лет, в т. Глубинно почвенническое миропонимание сопряжено у Никулиной со стоицизмом каменноостровского Пушкина, ахматовско-мандельштамовские темы и интонации — с шестидесятническим рационализмом и лиризмом.
Нарочитая, но не избыточная образность, отсылающая то к античности, то к дворянской культуре ХIХ — начала ХХ веков, аранжируется строгой силлабо-тоникой, исключающей какой-либо намёк на авангардное письмо. В конечном счёте образы природы приносят умиротворение на фоне потрясений судьбы.
Хельга Ольшванг. Свёртки Пер. Даны Голиной. Замечательно задуманная и изящно сделанная книга: стихи, отсылающие к японской культуре, проиллюстрированы гравюрами Хокусая и других японских художников, но действительно «свёрнуты» внутри книги: напечатаны так, что увидеть их можно, лишь разрезав страницы. Но тогда гравюра будет разрезана посередине: отсылка к архаической практике обращения с книгой одновременно сообщает, что наше восприятие старого искусства чревато искажениями, в том числе фатальными.
Что касается самих стихов, а они тут, конечно, главное, то это очень новая Хельга Ольшванг — лаконичная, стремящаяся не к экстенсивному выражению смысла, но к суггестии. В этом смысле название «Свёртки» можно связать ещё и с идеей дополнительных «свёрнутых» физических измерений. Лаконичность большинства текстов заставляет вспомнить о японских поэтических формах, структура книги открыто ссылается на спектакль театра кабуки.
Обратим внимание, что эстетизации здесь сопутствует рационализация: создавая необычный образ, Ольшванг выступает толкователем и адвокатом той реальности, которая за ним прячется.
Книга-концепт, которая, по задумке автора, должна быть уничтожена. Эту книгу-свёрток, в которой изображения помещены внутрь неразрезанных страниц, можно только прочесть. Или разрушить. За этим актом скрывается ещё один смысл. В основу «Свёртков» положена легенда о ныряльщице и осьминоге. Принцесса Таматори, скрываясь от морских чудовищ, разрезала себе грудь и спрятала жемчужину в теле.